14 ноября сего года в театре “Ибрус” состоялась премьера короткометражного художественного фильма “Пери Гала”. Мы представляем вашему вниманию рецензию на этот фильм режиссёра, художника-концептолога и философа Теймура Даими
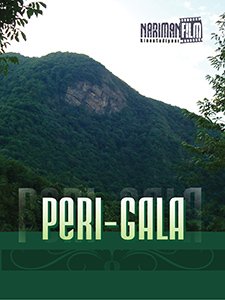
Введение: необратимость прорыва
1.Инфо
Представленный вашему вниманию нижеследующий текст появился в ходе нелёгких размышлений над художественным фильмом “Пери Гала”, который мне посчастливилось посмотреть чуть раньше его официальной презентации в самом респектабельном театре Азербайджана “Ибрус” (театр Рустама Ибрагимбекова). Я говорю нелегких размышлений в силу обманчивой драматургической и стилистической внятности картины, толкающей к однозначным оценкам и толкованиям.
Когда после уединённого просмотра фильма один из его режиссёров Ильгар Сафат спросил меня: “Ну, как?” я помню, выдержав паузу, ответил: «Жуткий фильм”. Однако, заметив замешательство Ильгара, я тут же поспешил добавить: “ Жуткий в хорошем смысле …”. Я имел в виду, что от подлинного произведения искусства я жду в своей психо-биохимической реакции на него не приятного удивления, не телячьего восторга и не интеллектуального наслаждения, а только смятения чувств, возникающее от интригующего столкновения с Неизвестным…
Сразу оговорюсь, что в процессе нижеследующего анализа я руководствовался рецептивной эстетикой, то есть мне интересен фильм не сам по себе как самодостаточное целое, в которое авторы вложили определённое содержание, а то, как он воспринимается, в частности, мною. Здесь уместно вспомнить известную мысль французского философа-постструктуралиста Ж. Деррида о том, что часто в произведении искусства интересным и значимым является не то, что хотел вложить в него автор, а то, что обнаружилось в ткани произведения помимо его авторской воли, как неожиданный сюрприз из области бессознательного.
Для начала, короткая справка. Короткометражный художественный фильм “Пери Гала” был произведён на базе кинокомпании “Нариманфильм” при финансовой поддержке Министерства Культуры и Туризма Азербайджана в рамках конкурса “Бу мейдан, бу экран”. Автор сценария – Ирада Саййа, режиссёры – Ильгар Сафат и Микаил Микаилов, оператор - Варлам Карчхадзе. В главной роли – Руслан Исмайлов, продюсер фильма – Нариман Мамедов. Надо отметить, что авторы фильма, да и вся съёмочная группа – люди молодые, средний возраст которых составляет тридцать лет. Этот фактор немаловажен, так как указывает на приход в азербайджанское кино нового поколения креативных личностей и организаторов производства, со свежим взглядом на мир и знаниями наиболее продвинутых аудиовизуальных стратегий в современном киноискусстве.
Скажу прямо и сразу – опуская все возможные недостатки и рискуя впасть в ложный пафос я считаю фильм “Пери Гала” одним из предвестников серьёзного прорыва в азербайджанском кинематографе, который обещает совпасть с революционным поворотом в мировом кино. Иначе говоря, в этом фильме заложен неочевидный смысловой потенциал, который позволяет мне соотнести энергетику этой работы с ещё невыявленным мощным инновационным пластом в мировом кино. Этот скрытый магматический пласт, словно постепенно вызревающий эмбрион, готовиться к выходу на свет в ближайшем будущем, что и явится самой настоящей революцией в сфере кино. В связи с этим свой анализ самого фильма я, во-первых, предварю размышлениями относительно того, чем же “беременно” современное киноискусство, во-вторых, в дальнейшем позволю себе подняться до некоторых весьма спорных культурософских обобщений, потому что считаю, что любой фильм должен быть рассмотрен в контексте культурной жизни.
Итак, в силу каких причин фильм “Пери Гала” представляется мне весьма симптоматичным и далеко неслучайным “здесь и сейчас”?
2. Кино в преддверии радикальной мутации
В последнее время всё настойчивей звучат мнения знаковых фигур мирового кинематографа о необходимости радикальных концептуальных изменений в сфере кино. Есть позиции крайне революционные и спорные – например, неоднократно озвучиваемый тезис английского режиссёра Питера Гринуэя: “Кино умерло. Настало время мультимедийной культуры”. Настаивая на своём тезисе и будучи последовательным человеком Гринуэй отошёл от собственно кинодеятельности, занимаясь мультимедийными проектами и предпочитая классическому кинематографу открытия актуальных художников в области видеоарта и web-дизайна (кстати, сходная траектория пути наблюдается и у известного иранского режиссёра Аббаса Киорастами). Известный американский продюсер Боб Ван Ронкель признает, “что большинство голливудских фильмов все чаще становятся провальными, особенно в плане доходности…”. Другой живой классик американского кино Дэвид Линч продемонстрировал на последнем кинофестивале в Венеции свой трёхчасовой умопомрачающий видео опус “Внутренняя империя”, который в дерзкой попытке преодолеть затхлые киноштампы поверг в шок даже самых рьяных поклонников режиссёра. Ведущие эксперты в замешательстве так и не разобрались, что это такое, фильм или новая форма аудиовизуального искусства, требующая иных, модифицированных условий для своего восприятия.
Более сдержанные аналитики пророчат постепенную мутацию кинематографа в сторону компромисса между голливудским мейнстримом и европейским артхаузом. Другими словами, конвергенцию коммерческого/зрелищного и авторского/интеллектуального начал, способной произвести на свет некий органичный гибрид, который удовлетворил бы как “плебейские” вкусы массовой аудитории, так и утончённые “элитные” потребности киногурманов. Но в целом неудовлетворённость актуальным положением дел в мире киноиндустрии вызвана, во-первых, неотвратимой маргинализацией, а то и повсеместным поражением авторского кинематографа, вследствие доминации продюсерской ролевой функции (по сути безразличной к творческим “завихрениям” радикальных режиссёров); во-вторых, назойливой повторяемостью тематик, сюжетов, подходов, технических приёмов и спецэффектов, наблюдающейся в “коммерческом” кино.
Если результировать все так называемые минусы интернациональной киносферы, то можно сказать, что они коренятся в факторе рабской зависимости киноязыка от литературной основы. Диктат нарративности, фабульности, мелкожитейской психологичности, исходящий от боязни потерять (интеллектуально ленивого!) зрителя превращает современное кино в банальную иллюстрацию литературных идей. Дело не только в прямых экранизациях, а в самом подходе к кино как “служанке” литературы и, в частности, психологического романа XIX века, изобилующего мелкобуржуазными и “слишком человеческими” проблемами и темами. К тому же, если учесть, что при экранизации исчезает основное интеллектуальное зерно литературного произведения (по мнению специалистов по визуализации вредящее духу зрелищности), то можно представить, в каком жалком статусе оказывается кинопродукт. В таком подчинённом вторичном статусе кино предстаёт объектом психоаналитических спекуляций и становится жертвой псевдоинтеллектуальных толкований. Как справедливо отмечает (именно для такого преобладающего типа кинематографа) основатель онтопсихологии и синемалогии, итальянский профессор Антонио Менегетти: “Кино… выражает шизофреническую свободу псевдозрелых людей, а относительная семантика кинокартины порождает лишь шизофрению, несмотря на видимость катарсиса” (А Менегетти. Кино, Театр, Бессознательное. Том I).
Но является ли этот, сформированный массовой культурой актуальный статус литературно-психологического кинематографа безальтернативным, а значит единственно верным? Ответ на этот вопрос отсылает нас к той роковой точке, с которой началось кино, каким мы его знаем сегодня (как наиболее могущественную ветвь индустрии развлечений) – точке, в которой пересеклись повествовательность и зрелищная балаганная развлекательность. Ведь вспомним, благодаря усилиям братьев Люмьер кино родилось как уникальный синтез литературы, музыки, живописи, театра и фотографии, что дало ему блестящий шанс стать особой формой духовной практики, которая была бы сродни древнему храмовому теургическому искусству, только адаптированной к современной светской эпохе. Другими словами, в кино вполне могла реализоваться идея соборности, способной радикально изменить восприятие и сознание современного человека. Первая же демонстрация фильма братьев Люмьер с приближающим поездом на экране и в ужасе выбегающими из кинозала зрителями стало подтверждением тому, какой мощнейший взрывной потенциал психофизического воздействия заключался в новом изобретении. Но очень скоро, учуяв также очевидный коммерческий и идеологический ресурс нового искусства, заключённый в его агрессивной спектакулярности и всеядности, ушлые коммерсанты – предтечи современной голливудской кинопродюсерской мафии и политтехнологи тоталитарных режимов превратили кино, соответственно, в разновидность балагана и аттракциона, с одной стороны, и идеологическое оружие, с другой. К сожалению, этому во многом способствовали открытия гениального родоначальника игрового кино Жоржа Мельеса в области спецэффектов и методов нарративной зрелищности. Сегодняшнее мировое психологическое кино, за редким исключением (спорадические всплески интеллектуального авторского и экспериментального арт-кино, пытающихся преодолеть психологический уровень и прорваться к более глубинным структурам) есть продолжение и развитие именно этой развлекательно-балаганной и идеологической “традиции”. Но существующая глобальная неудовлетворённость этой традицией и исчерпанность сугубо психологических сюжетно-фабульных комбинаций, заставляющих мировые продюсерские центры судорожно охотиться и выискивать “свежие идеи”, диктует необходимость обратиться к истокам кинематографа и реализовать его доселе незадейственный сакрально-мистериальный ресурс.
Итак, озвучу свою основную мысль: современный кинематограф находится в преддверии великого эпохального поворота от сюжетно-фабульного-психологического кино (просто кино) к сакрально-мистериальному-метафизическому кинематографу (метакино как форме аудиовизуальной теургии, которая отлична от того, что мы понимаем под понятием “ искусство”).
Как многие из вас уже могут догадаться, этот поворот c некоторыми оговорками можно соотнести с поворотом в театральной сфере, где в разное время, усилиями уникальных личностей, наследующих опыт А. Арто и древних ритуально-магических практик – Ежи Гротовского в Польше, Питера Брука в Англии, Вагифа Ибрагим-оглы в Азербайджане, Анатолия Васильева в России и некоторых других – уже произошёл поворот от театра психологического реализма к театру мистериальному, архетипическому и метафизическому. Основной концепт этого поворота (в трансляции А. Васильева): “"Искусство - культ. Спектакль - обряд или мистерия. Актёры - жрецы".
Так вот, в плоскости этого, пока ещё виртуального поворота (если говорить о кино), мне бы и хотелось рассмотреть фильм “Пери Гала”, который содержит в себе латентный вектор этого поворота. Заранее отмечу, что нижеследующий ракурс видения фильма не является очевидным и, скорее всего, представляет собой продукт субъективного произвола.
Мифопоэтика: от психотипа к архетипу
3. История/сюжет
На первых же минутах фильма нам становится ясно, что истории и сюжета как таковых здесь нет. То есть истории и сюжета в бытовом, психологическом смысле. Скорее здесь можно говорить о трансляции эпоса и неявной апелляции к эстетике ашугской традиции.
С самого начала я должен отметить, что основной информационный пласт картины, составляющий суть Послания, выходит за пределы рациональной драматургии и формируется самой атмосферой фильма: темпоритмом, паузами, звукошумовым рядом, цветотоновым решением и т. д. Скажем, для меня определяющими факторами является не ситуативная канва истории, не причинно-следственная связь событий, а то, например, что по своей стилистике фильм минималистичен, сдержан, действие разворачивается так неторопливо, что даже кульминационные моменты “грешат” несуетливостью. Далее, оригинальная звукорежиссура, а именно, фактическое отсутствие музыки, за счёт чего кадры начинают дышать внутренней, только им присущей магической мелодией – мелодией первозданной природы, исходящей из аутентичной онтологии каждого кадра (отметим, что на съёмках этого фильма звукорежиссер фильма Теймур Керимов, впервые в истории азербайджанского кино, использовал оборудование прямой записи звука.) И, наконец, операторская техника съёмки с применением “контролируемой тряски” привносит в работу фактор живого документального присутствия…
Но так как современное зрительское восприятие в силу левополушарной доминанты не может обойтись без внятного удобоваримого сюжета, то вкратце перескажем его.
Начинается фильм с показа некой деревни и потрясающе красивых пейзажей. Мило пасущиеся козы, коровы, журчащая горная речка, первозданная Природа. Люди, занимающиеся своими обычными, каждодневными занятиями: кто работает в поле, кто печёт хлеб, а кто доит корову…
Парень-пастух с отрешённым, сосредоточенным видом вытаскивает небольшую дудочку и начинает играть – мелодия, казалось бы, неброская, но резонирующая с чем-то духовно значимым и, возможно, спящим глубоко внутри нас… Пасторальная, почти библейская картинка. Торжество Традиции. Эдем…
Далее, неким стариком (его сыграл Идрис Рустамов) пересказывается легенда о мифической персоне – Пери, являющейся смысловым и магнитным центром всей истории. В далёкие мифические времена божественная Пери была заступницей людей, которые молились на неё и видели в ней хранительницу их общего духовного Очага. Но вот пришло время когда Она, по причинам нам неизвестным, должна была уйти… И люди взмолились, и стали настойчиво просить её не покидать их. И тогда она осталась, но своеобразно – превратившись в скалу, ставшей священным местом - Пиром, куда устремлены мольбы и потайные желания сельского люда (“Гала” по-азербайджански означает скала). А кусочек её сердца, отколовшись и скатившись вниз к деревне, превратился в камень Покаяния. И с тех пор любой обитатель этого места, совершивший дурной поступок приходит к этому камню, чтобы покается, и получить прощение. Но если раскаяние его неискренне, то он превращается в камень.
Затем перед нами разворачиваются две, казалось бы, независимые сюжетные линии. Первая линия устами молодого мужчины повествует о проблеме, долгое время преследующую его семью (невозможность иметь детей) и о том, как после многочисленных просьб и молитв, обращённых к Пери Гала у них, наконец, появился шанс – жена молодого человека забеременела. Позже мы увидим, как она благополучно разрешается – на свет появляется долгожданное Дитя.
Вторая основная линия рассказывает о главном персонаже (герой Руслана Исмайлова). Это довольно странный тридцатилетний парень с неотёсанным, диким видом и отталкивающими безумными повадками. До конца неясно: то ли действительно психически неполноценный, то ли симулирующий болезнь наглый придурок, так сказать, нравственный урод (не путать с образом Квазимодо! Тот был физический урод с чистой, детской душой). Но, в любом случае, он – исчадие ада, демон во плоти. Мы видим, как он бросает камни в коз, мучает, а затем и вовсе забивает насмерть енота. Мы видим, как с вожделением смотрит он на одну из девушек, которую чуть позже изнасилует.
Факт изнасилования – один из ключевых в фильме. Он вносит дисбаланс – равновесие грубо нарушено: в размеренный циклический ритм природы и жизни людей проникает грех. Как отреагирует Пери Гала? Она ведь всё “видит”.
После совершённого преступления (кстати, девушка, не вынеся позора, вешается прямо в хлеве, где всё произошло) несчастного урода охватывает жуткий страх перед справедливым возмездием. Охватив голову руками и изрыгая нечленораздельные звуки, он в ужасе бежит к камню покаяния, а затем и дальше – к скале Пери Гала. Войдя в тёмную пещеру, он в абсолютном мраке сакрального пространства сталкивается с безмолвным призраком своей жертвы – обесчещенная им девушка преследует его больное сознание даже после своей гибели. Признаюсь, эпизод в пещере является наиболее ярким и завораживающим в фильме. Безмолвный диалог палача со своей жертвой, в процессе которого они меняются статусами (палач превращается в жертву), сопровождаемый магическим звукошумовым рядом, способен оказать поистине гипнотическое воздействие.
В одном из последних кадров мы видим главного героя мёртвым среди бурной растительности. Пери Гала “отреагировала”. Справедливость восторжествовала. Равновесие восстановлено, о чём знаменует вновь зазвучавшая мелодия – то молодой пастух заиграл на дудке, точь-в-точь как в начале фильма. Круг замкнулся.
Вот и вся история. Простая и, казалось бы, примитивная. Но именно в этой примитивности и заключён внушительный энергетический потенциал. Рационального здесь мало. Можно сказать, что его вообще нет. Фильм обращён не к рассудку, он аппелирует к до-рассудочным, до-эмпирическим пластам нашего сознания. А если говорить точнее, энергетический ток картины ненавязчиво (!) бьет прямо по церебральной нервной системе. Ненавязчиво потому что мы можем этого и не осознать – суггестия действует тихо и бесшумно, подобно коварному демисезонному холоду, который незаметно пронизывает нас, недостаточно одетых, ничего не подозревающих и очухивающихся только тогда, когда начинает течь нос, пробирает озноб, поднимается температура…
Прежде всего, обращает на себя внимание безличность, принципиальная неконкретность истории. Где происходит действие? Что это за страна? К какому народу принадлежат герои? И о каком времени идёт речь? Неизвестно! Таким образом, история приобретает универсальное значение, а действие восходит к мифическим временам (не факт, что одежда персонажей фильма выдаёт современную эпоху, а их облик – кавказский регион). Это и является основополагающим – структура фильма коррелирует со структурой мифа (и притчи, учитывая концептуальную разницу между притчей и мифом). По сути, всю историю можно свести к извечной теме борьбы добра и зла и конечным торжеством справедливости. Раз манифестируется такое предельное эпическое обобщение, то ни о какой конкретике говорить не приходится – перед нами разворачивается действие, происходящее во вневременном Мифическом Пространстве, где не существуют никаких наций, государств, человеческих законов (!). Не существуют и конкретных психологических характеров. Это второе, чем знаменателен фильм. В нём нет психотипов, но есть Архетипы. Всё “человеческое, слишком человеческое” стёрто, осталась лишь сверхиндивидуальная суть, несгораемое зерно человека-символа, человека-иероглифа. Каждый персонаж – носитель определённой сакральной энергетики, “знак” определённого “качества”. Так молодой человек, у которого родился ребенок, есть носитель идеи праведности, смиренности, трудолюбия. Он трудится в поте лица, ради семьи, ради будущего ребёнка. Изнасилованная и повесившаяся девушка – символ чистоты и невинности. Это становится ясным по её поведению в быту. И, наконец, наш главный герой – символ зла, дикой витальной аномалии, хаотической разрушительной энергии.
Идея, лежащая на поверхности – что посеешь, то и пожнешь. Молодой человек честно трудиться, искренне молится, не теряет надежды и, в конце концов, вознаграждается. Главный герой только и делает, что разрушает и убивает живое вокруг себя и получает “сполна”… Слишком просто и прямолинейно, неправда ли? Возможно, не спорю, но…
4. Атмосфера + Message.
Вот здесь, в этом “но” и заложена мина замедленного действия. В этой нестыковке между подсознательным ожиданием зрителя о возможном прощении героя высшей Силой и реальным безысходным финалом картины находится люфт, ведущий к основному невербальному посланию фильма – посланию об абсолютной безжалостности Бытия по отношению к сентиментальным человеческим надеждам на конечное Благо и мягкотелой гуманистической вере в торжество абстрактного добра (впрочем, элемент беспричинного ужаса заложен уже в сцене изнасилования девушки; почему, по какой причине случилось сие насилие над самой чистотой?!). Нет, мир, в который мы заброшены с момента рождения, не является добрым или злым, он – таинственен и непредсказуем. И в этом смысле он невероятно жесток. Уточняю, жесток не сам-по-себе и сам-в-себе, а как результат разрушения иллюзий простого, наивного человека относительно “прекрасного” мира и “доброго” Бога; как следствие прямого столкновения духовно неподготовленного индивида с неприкрытым ужасом Реальности. Провидение и Судьба (воля Бога) в своих сверхрациональных жестах не считаются с меркантильными желаниями человека, в большинстве случаев представляющего собой онтологическое убожество…
Идиллическая Тишина и Насилие, красота первозданной Природы и мычащее Уродство… Таким образом, невзирая на внешнюю спокойность, неболтливость фильма от него исходит аромат беспричинного ужаса (оговорка: не бытового, а метафизического ужаса, который глубоко исследовали Хайдеггер и Арто; так глубоко, что последний поплатился за это психическим здоровьем). Того самого “тихого” ужаса, который расплавляет психологическую оболочку и высвобождает метафизическую суть человека, тем самым, удовлетворяя самую главную потребность последнего (как субъекта восприятия произведения искусства) – потребность вкушения Невыразимого, немотствующий зов бездонного Бытия, незаметно переходящего в Ничто.
То есть речь идёт о том, что человек в глубинах своего бессознательного всегда жаждал и жаждет столкнуться с опасными, предельными метафизическими смыслами (с опытом смерти как собственной психофизической границы); вызвать силы хаоса и разрушения и, пройдя в самом себе все точки катарсиса, в конце концов Пробудиться или сойти с Ума (третьего не дано, хотя, парадоксальным образом, третье – это почти всё аморфное среднестатистическое человечество!). Но человеческая рациональная имитационная культура – основанная на линейной аристотелевской теории мимесиса (подражания), – за редчайшими исключениями (праисторическая и средневековая культуры из за нелинейной теоцентричности), представляющая собой своеобразный буфер, не позволяет этому осуществиться, предательски отвлекая внимание от главного… Но раз так, раз Художникам не позволяют отрабатывать силовые потоки разрушения и смерти в пространстве культуры и искусства, то эти же самые яростные силы креативного Хаоса успешно вторгаются прямиком в саму действительность, в повседневную жизнь, уродуя её до неузнаваемости. Если мифопоэтическое мышление и энергетические потенции не реализуют себя в проблемном поле культуры, то они с необходимостью проявляются в реальной жизни. Примеры: германский расистский миф, советский социальный миф, американский глобалистский миф и пр. От зарождения наиболее экстремальных форм политики XX века (опять, те же фашизм, коммунизм, неолиберализм…) до событий 11 сентября 2001 года и более локальных фактов терроризма и социо-политического безумия – всё есть результат блокировки рациональной имитационной культурой мистериально-теургического вектора искусства и наоборот, поощрения банально-психологического дискурса, ставшего уже тотальным. Многочисленные же примеры щекочущих нервы обывателей “травматических” произведений современной культуры – голливудские фильмы ужасов класса B (B-movie, т. е. киномусор), экстремальные “кровавые” формы телесных перформансов актуальных художников и пр. – не в счёт, это всё жалкие уловки имитационной культуры развлечений; это “не та кровь и не та боль”…
Но дело в том, что длительный отрыв человека от собственных глубинных нейрогенетических структур и подавление внутренней интенции к опасному вскрытию предельной тайны жизни и смерти уже становится крайне опасным для самого человека, как активного субъекта истории. Имитационная культура, оберегая изнеженного конформизмом человека от яростных потоков “Сверхбытия” запирает его в собственной антропологической скорлупе, делает человеческую цивилизацию в целом аутичной и, оттого обречённой на энтропию, на медленную тепловую смерть (согласно законам физики: закрытые системы чахнут, открытые развиваются). Не поэтому ли европейская культура на протяжении многих десятилетий судорожно ищет выхода во всевозможных “деконструкциях”, “смерти автора”, “шизоанализе” и прочих интеллектуально убогих циничных постмодернистских стратегиях? Не оттого ли эти набившие оскомину научные и околонаучные разговоры о “Конце…”, имеющие цель, наконец, подступиться к новому началу?
Тщетно! Выход из цивилизационно-мировоззренческого тупика не в спекулятивных играх с измерениями боли, страдания и ужаса, только закрепляющих сознание в трясине вечного постмодернизма. Единственный выход – в возвращении мрачного гностического взгляда, в прямой продуктивной коммуникации с этими разрушительно-хаотическими, а по сути метафизическими величинами, с целью их преображения и использования как “топлива” для прорыва в область Трансцендентного, где только и обретаются предельные смыслы… В древности для этих сложнейших духовных операций существовал ритуал/мистерия как точка магического соотнесения человеческого с Нечеловеческим, в результате чего в мире сохранялся баланс разнородных энергетических сил. В наши “просвещённые” светские времена, когда религиозные институции более не работают, а дискурс сакрального оказался позорно скомпрометированным, только посредством синтетического искусства (театр, кино, мультимедиа), этот процесс соотнесения становится возможным. Но опять же не всякого искусства, а только мистериально-теургического, возвращающего беспредельную жёстокость метафизических законов из пространства жизни в пространство произведения, вследствие чего очищенная от зла жизнь преображается. Как мы уже отметили выше, в сфере театра этот судьбоносный для всей цивилизации онтологический поворот уже произошёл и углубляется, в кинематографе же он только грядет, хотя здесь уже заложена маргинальная традиция метакино с колоссальным зарядом суггестии (кинотеология Р. Брессона и Т. Дрейера, кинофилософия А. Тарковского, киномистерии С. Параджанова, киномедитации Г. Реджио и “прямое кино” П. Пазолини).
Тем более отрадно видеть, что наряду с симптоматичными “прострелами” – фильмы Брюно Дюмона (“29 Пальм”, “Фландрия”), Ким Ки Дука (“Остров”, “Самаритянка”) и даже Мела Гибсона (“Страсти Христовы”, “Апокалипсис”), продолжающие традиции метакино – на кинематографической площадке появляются и такие фильмы как “Пери Гала”, сигнализирующие (не спорю, пока ещё скромно) о наступлении совершенно нового этапа в азербайджанском (и не только) киноискусстве.
© Теймур Даими
Ноябрь, 2007










